 меню содержание news303 news304 news305
меню содержание news303 news304 news305
Темная энергия отпружинила
|
Темная энергия остановила рост крупнейших структур космоса – гигантских галактических скоплений.
Независимое доказательство существования «вселенской пружины» подтверждает справедливость тео-
рии относительности и в конечном счете обещает нашей галактике жизнь в бесконечном одиночестве.
В самом конце прошлого столетия в космологии – науке о Вселенной в целом – произошла настоящая
революция, равной которой не было, наверное, с 1920-х годов. 80 лет назад, вскоре после создания
Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, петербуржский математик и метеоролог Алек-
сандр Фридман показал, что наш мир должен быть нестационарным. Поначалу все, в том числе и
Эйнштейн, подумали, что в расчетах должна быть ошибка, но вскоре астроном Эдвин Хаббл и его
сотрудники доказали, что Вселенная и вправду расширяется.
В 1998 году сразу две группы астрономов – под руководством Сола Перлмуттера и Брайана Шмидта –
при наблюдениях далеких взрывов сверхновых выяснили, что расширение идет с ускорением. Это ста-
ло настоящим шоком для ученых, ведь галактики притягиваются друг к другу, что неизбежно должно
замедлять их движение. Ан нет – со временем скорость их разбегания увеличивается; по крайней мере,
в последнее время. Представьте, что вы подбросили вверх мячик, а он, вместо того чтобы остановить-
ся в воздухе, начал набирать скорость. Есть о чем задуматься..
Со временем, уже в XXI веке, тем же астрономам удалось показать, что когда-то давно никакого уско-
рения не было – галактики-мячики, удаляясь друг от друга, замедляли бег. Однако примерно 5 милли-
ардов лет назад на авансцену вышла незаметная прежде сила, своего рода «вселенская пружина», рас-
талкивающая галактики в разные стороны.
Источник этого ускорения астрономы назвали темной энергией.
На самом деле, у теоретиков к тому времени уже давно пылился рецепт для описания такой силы. Еще
сам Эйнштейн – после того, как осознал правоту Фридмана, но до того, как свои результаты предъявил
Хаббл – ввел в свои уравнения так называемую космологическую константу, которую обозначил про-
писной греческой буквой Λ («Лямбда). Хотя Λ-член слегка портил изящество главного уравнения теории
относительности, он позволял остановить движение галактик и добиться «вечного» стационарного
состояния нашего мира. С наблюдениями Хаббла необходимость в космологической постоянной отпа-
ла, и Эйнштейн даже как-то назвал ее своей «величайшей оплошностью». После работ Перлмуттера и
Шмидта «оплошность» пришлось доставать из теоретических загашников.
Темные иллюзии
Космологическая загадка
Развитие космологии, как науки о Вселенной, в последнюю сотню лет во многом стимулировалось
парадоксами и задачами, казавшимися их авторам неразрешимыми...
Хотя космологическая постоянная очень хорошо описывает наблюдения, ученые из-за нее чувствуют
себя очень некомфортно. Конкретное значение константы, которое получается из анализа данных, на
многие и многие порядки величины меньше того, что должно было бы следовать из квантовой меха-
ники. Возникла даже так называемая «проблема космологической постоянной», а вскоре физики заме-
тили и вторую несуразность – так называемую «проблему совпадения». В прошлом мы подробно писа-
ли про две эти космологические загадки (за последние 2–3 года каких-то прорывов на этом направле-
нии не случилось ).
Возможно ли, что космологическая постоянная – иллюзия? Возможно ли, что сама эйнштейновская
теория неадекватно описывает мир на таких больших расстояниях?
Может быть, Шмидту и Перлмуттеру удалось нащупать границы применимости теории относительнос-
ти? Или их странные результаты вызваны каким-то неучтенным эффектом?
Например, поглощением света. В конце концов, все, что показали астрономы – это что сверхновые,
удаляющиеся с заданной скоростью, выглядят чуть тусклее, чем должны. Значит ли это, что расстояние
до них больше? В принципе, необязательно – фотоны могли пропасть по дороге, хотя построить непро-
тиворечивую модель такого поглощения пока не удавалось.
Несколько лет назад результаты работ по сверхновым удалось подтвердить независимым методом, по
наблюдениям галактических скоплений. В этом случае ученые воспользовались не «стандартной све-
чей» – сверхновой типа Ia, по наблюдаемой яркости которой можно оценить расстояние до нее, а
«стандартной линейкой», расстояние до которой оценивается по видимому размеру этой линейки ( в
качестве «линейки» выступали характерные масштабы Вселенной на ранних этапах расширения, отпе-
чатавшиеся в распределении вещества ). Такие результаты потерей фотонов уже не объяснить.
Однако и эти данные показывают лишь то, что расстояния между галактиками больше, чем должны
были быть, что геометрию нашего мира в целом как будто распирает «вселенская пружина». Чтобы
поверить в реальность ее существования, почувствовать её жесткость, ее присутствие, хотелось бы
увидеть, как эта пружина действует на обычное вещество.
Задержка в развитии
Разглядеть, как темная энергия расталкивает материю, удалось астрономам под руководством Алексея
Вихлинина из Смитсонианского астрофизического центра в Гарварде и Института космических иссле-
дований РАН в Москве.
Ученые показали, как «вселенская пружина» мешает росту массивных галактических скоплений – круп-
нейших структур Вселенной, объединяющих многие тысячи галактик.
Работа принята к публикации в февральском выпуске Astrophysical Journal и доступна в коллекции элек-
тронных препринтов Корнельского университета.
 Скопление галактик Abell 85. На оптическое изображение, полученное телескопом обзора SDSS,
наложено лиловое изображение рентгеновского свечения горячего межгалактического газа в
скоплении, полученное с помощью орбитальной обсерватории Chandra. По свойствам этого
свечения можно надёжно определить массу всего скопления. // NASA /CXC /SAO
Алексей Вихлинин получил премию имени Росси 2008 года
За выдающийся вклад в изучение астрофизики высоких энергий Американское астрономическое об-
щество ( Отделение астрофизики высоких энергий) присудило премии имени Бруно Росси 2008 года
двум российским астрофизикам...
Вихлинин и его коллеги проследили за ростом скоплений галактик в течение последних 7 миллиардов
лет, воспользовавшись данными космической рентгеновской обсерватории Chandra. С ее помощью
астрономы получили рентгеновские снимки 86 скоплений и определили их массу по характеристикам
свечения горячего межгалактического газа ( например, по температуре – она тем выше, чем глубже об-
щая потенциальная яма, созданная притяжением галактик). После этого ученые сравнили, как характер-
ные массы скоплений менялись с течением времени.
В принципе, вся история нашей Вселенной – это история иерархического роста все более крупных и
все более контрастных гравитационно связанных структур. Через 300 тысяч лет после Большого взрыва
– это самое глубокое прошлое нашего мира, которое пока удается наблюдать, – характерные неоднород-
ности в плотности вещества составляли лишь тысячные доли процента. С тех пор под действием силы
тяжести эти неоднородности росли, и в какой-то момент появились первые обособленные сгустки ма-
терии. На них падал газ, сами сгустки сливались, образуя зародыши первых карликовых галактик. Те, в
свою очередь, сливались в крупные галактики вроде Млечного пути, объединялись в группы, а затем
скопления, в которых становилось все больше и больше членов.
Поэтому в среднем ближайшие к нам скопления галактик массивнее далеких: свет от последних шел
миллиарды лет, а потому видим их мы молодыми, еще не захватившими соседние галактики.
Однако, как показали авторы последней работы, этот рост в последние миллиарды лет замедлился.
Сам Алексей Вихлинин, заимствуя термин из медицины, называет происходящее «задержкой развития».
Полноценно развиваться скоплениям помешала темная энергия, которая расталкивает галактики в
окрестностях растущего гиганта и тем мешает ему захватывать массу. Тяготение скопления в такой си-
туации чем-то напоминает неудачливого любителя пива. Представьте, что вы пришли за напитком в
супермаркет, катите тележку к длинным полкам с любимым дюнкелем, а прямо перед вами товароведы
сгружают бутылки на поддоны и увозят обратно на склад. И как вы ни тяните руки к пенному напитку,
у профессионалов дело спорится быстрее. Обидно? Это темная энергия.
Если бы не она, из таких скоплений, что мы видим на расстояниях в 7 миллиардов световых лет, за
долгие годы получились бы куда более увесистые образования, чем те, что видны на расстоянии в 2–3
миллиарда световых лет и ближе. Притом речь идет не о каких-то маленьких поправках – в моделях
без темной энергии таких скоплений, которые мы считаем крупнейшими, к настоящему времени было
бы в несколько раз больше.
Опять Эйнштейн и та же ?
Особенно важно, что существование темной энергии впервые доказано способом, совершенно не за-
висимым от данных по сверхновым. Это подтверждает – насколько вообще возможно подтвердить
правильность физической теории – применимость теории относительности на космологических масш-
табах.
Соавтор работы Билл Форман в ходе организованной NASA во вторник пресс-конференции вспомнил
Джона Уиллера, сформулировавшего суть общей теории относительности в формуле: «Материя решает,
как пространству гнуться, пространство решает, как материи двигаться».
До сих пор ученые восстанавливали свойства темной энергии ( это тоже форма материи ) из первой
части афоризма. Вихлинин и его коллеги задействовали вторую его половину и получили тот же ре-
зультат, что вовсе не было гарантировано изначально. Получись здесь противоречие, астрофизики уже
наперебой предлагали бы альтернативные «обобщения» теории относительности.
Скопление галактик Abell 85. На оптическое изображение, полученное телескопом обзора SDSS,
наложено лиловое изображение рентгеновского свечения горячего межгалактического газа в
скоплении, полученное с помощью орбитальной обсерватории Chandra. По свойствам этого
свечения можно надёжно определить массу всего скопления. // NASA /CXC /SAO
Алексей Вихлинин получил премию имени Росси 2008 года
За выдающийся вклад в изучение астрофизики высоких энергий Американское астрономическое об-
щество ( Отделение астрофизики высоких энергий) присудило премии имени Бруно Росси 2008 года
двум российским астрофизикам...
Вихлинин и его коллеги проследили за ростом скоплений галактик в течение последних 7 миллиардов
лет, воспользовавшись данными космической рентгеновской обсерватории Chandra. С ее помощью
астрономы получили рентгеновские снимки 86 скоплений и определили их массу по характеристикам
свечения горячего межгалактического газа ( например, по температуре – она тем выше, чем глубже об-
щая потенциальная яма, созданная притяжением галактик). После этого ученые сравнили, как характер-
ные массы скоплений менялись с течением времени.
В принципе, вся история нашей Вселенной – это история иерархического роста все более крупных и
все более контрастных гравитационно связанных структур. Через 300 тысяч лет после Большого взрыва
– это самое глубокое прошлое нашего мира, которое пока удается наблюдать, – характерные неоднород-
ности в плотности вещества составляли лишь тысячные доли процента. С тех пор под действием силы
тяжести эти неоднородности росли, и в какой-то момент появились первые обособленные сгустки ма-
терии. На них падал газ, сами сгустки сливались, образуя зародыши первых карликовых галактик. Те, в
свою очередь, сливались в крупные галактики вроде Млечного пути, объединялись в группы, а затем
скопления, в которых становилось все больше и больше членов.
Поэтому в среднем ближайшие к нам скопления галактик массивнее далеких: свет от последних шел
миллиарды лет, а потому видим их мы молодыми, еще не захватившими соседние галактики.
Однако, как показали авторы последней работы, этот рост в последние миллиарды лет замедлился.
Сам Алексей Вихлинин, заимствуя термин из медицины, называет происходящее «задержкой развития».
Полноценно развиваться скоплениям помешала темная энергия, которая расталкивает галактики в
окрестностях растущего гиганта и тем мешает ему захватывать массу. Тяготение скопления в такой си-
туации чем-то напоминает неудачливого любителя пива. Представьте, что вы пришли за напитком в
супермаркет, катите тележку к длинным полкам с любимым дюнкелем, а прямо перед вами товароведы
сгружают бутылки на поддоны и увозят обратно на склад. И как вы ни тяните руки к пенному напитку,
у профессионалов дело спорится быстрее. Обидно? Это темная энергия.
Если бы не она, из таких скоплений, что мы видим на расстояниях в 7 миллиардов световых лет, за
долгие годы получились бы куда более увесистые образования, чем те, что видны на расстоянии в 2–3
миллиарда световых лет и ближе. Притом речь идет не о каких-то маленьких поправках – в моделях
без темной энергии таких скоплений, которые мы считаем крупнейшими, к настоящему времени было
бы в несколько раз больше.
Опять Эйнштейн и та же ?
Особенно важно, что существование темной энергии впервые доказано способом, совершенно не за-
висимым от данных по сверхновым. Это подтверждает – насколько вообще возможно подтвердить
правильность физической теории – применимость теории относительности на космологических масш-
табах.
Соавтор работы Билл Форман в ходе организованной NASA во вторник пресс-конференции вспомнил
Джона Уиллера, сформулировавшего суть общей теории относительности в формуле: «Материя решает,
как пространству гнуться, пространство решает, как материи двигаться».
До сих пор ученые восстанавливали свойства темной энергии ( это тоже форма материи ) из первой
части афоризма. Вихлинин и его коллеги задействовали вторую его половину и получили тот же ре-
зультат, что вовсе не было гарантировано изначально. Получись здесь противоречие, астрофизики уже
наперебой предлагали бы альтернативные «обобщения» теории относительности.
 Эволюция Вселенной. После Большого взрыва расширение Вселенной поначалу замедлялось
за счёт взаимного притяжения вещества. Приблизительно 5 миллиардов лет назад «антигра-
витация» тёмной энергии стала сильнее притяжения вещества, плотность которого при расши-
рении падает, и замедление сменилось ускорением. // NASA /CXC /SAO
Астрономы разрушат Вселенную
Тёмная энергия подтверждает своё зловещее название. Она в любой момент может превратиться в
вещество, разрушив тот мир, который мы знаем. И работа астрономов лишь ускоряет этот процесс...
Однако результаты сходятся. Объединяя все данные вместе, авторы последней работы получили наи-
более точные на сегодняшний день оценки свойств темной энергии – ее плотности и величины w,
соответствующей жесткости «вселенской пружины».
Плотность загадочной субстанции составляет примерно 74% плюс-минус 1% от средней плотности
всего сущего, «жесткость» равна –0,99 плюс-минус 0,04.
Никаких признаков изменения плотности или жесткости в пространстве во времени ученые не заме-
тили.
И это немного разочаровывает. Дело в том, что постоянство плотности w=–1 в точности соответствует
Λ-члену, введенному в уравнения еще самим Эйнштейном. Вместе с тем, это лишь самая простая модель
темной энергии, предполагающая некоторую упругость, антигравитацию самого пространства. И ее
плотность – фундаментальная константа, про которую бессмысленно спрашивать, откуда она взялась и
почему равна именно этому значению.
Полностью в рамках теории относительности может существовать и великое множество более слож-
ных полей, также способных поработать в качестве вселенской пружины, но при этом имеющих какую-
то физическую природу, свойства, эволюцию. Таких моделей существуют десятки, если не сотни, и не-
которые из них результаты Вихлинина уже благополучно закрывают. Но если их авторам должно быть
обидно, то всем остальным эйнштейновская константа обещает спокойную, хотя и скучноватую жизнь.
Темное одиночество
Уже сейчас рост галактических скоплений практически закончился – более сложные структуры, чем
крупнейшие скопления наших дней, никогда уже не образуются. Например, Местная группа галактик,
в которой правят бал Туманность Андромеды и наша собственная Галактика, Млечный путь, никогда
не войдет в состав сверхскопления галактик в Деве, на окраинах которого мы сейчас находимся.
А вот дальнейшая судьба мира зависит от жесткости «вселенской пружины».
Если бы w была меньше –1, то плотность темной энергии с расширением бы только увеличивалась
(никакое известное нам вещество такими свойствами не обладает ). В результате рано или поздно от-
талкивание превозмогло бы притяжение любых известных нам объектов и привело бы к их разруше-
нию – сначала галактик, потом Солнечной системы, потом наших собственных тел. Это так называе-
мый «Большой разрыв». Представить, что это будет означать на практике, пока довольно сложно.
При жесткости, w в точности равной –1, плотность темной энергии при расширении не меняется, и
если Λ-член – все-таки последнее слово в рассказе о темной энергии, то нас ждет полностью пред-
сказуемое будущее. Млечный путь и Туманность Андромеды сольются ( этот процесс уже начался ),
на них упадут их мелкие спутники, и мы останемся в одиночестве. Расширение Вселенной будет про-
должаться бесконечно, и галактики Девы рано или поздно уплывут за горизонт нашего мира.
По словам Алексея Вихлинина, «через некоторое время нам нечего будет наблюдать, так что сейчас
самое подходящее время заниматься космологией».
Конечно, в тех 4% отличия жесткости темной энергии от уровня космологической постоянной, что
допускают результаты последних измерений, еще может обнаружиться ключ к какой-то иной, истин-
ной природе «космической пружины». Тех миллиардов лет, в течение которых космология не закон-
чится, для этого должно хватить.
gazeta.ru/science/2008/12/17_a_2912766.shtml
Эволюция Вселенной. После Большого взрыва расширение Вселенной поначалу замедлялось
за счёт взаимного притяжения вещества. Приблизительно 5 миллиардов лет назад «антигра-
витация» тёмной энергии стала сильнее притяжения вещества, плотность которого при расши-
рении падает, и замедление сменилось ускорением. // NASA /CXC /SAO
Астрономы разрушат Вселенную
Тёмная энергия подтверждает своё зловещее название. Она в любой момент может превратиться в
вещество, разрушив тот мир, который мы знаем. И работа астрономов лишь ускоряет этот процесс...
Однако результаты сходятся. Объединяя все данные вместе, авторы последней работы получили наи-
более точные на сегодняшний день оценки свойств темной энергии – ее плотности и величины w,
соответствующей жесткости «вселенской пружины».
Плотность загадочной субстанции составляет примерно 74% плюс-минус 1% от средней плотности
всего сущего, «жесткость» равна –0,99 плюс-минус 0,04.
Никаких признаков изменения плотности или жесткости в пространстве во времени ученые не заме-
тили.
И это немного разочаровывает. Дело в том, что постоянство плотности w=–1 в точности соответствует
Λ-члену, введенному в уравнения еще самим Эйнштейном. Вместе с тем, это лишь самая простая модель
темной энергии, предполагающая некоторую упругость, антигравитацию самого пространства. И ее
плотность – фундаментальная константа, про которую бессмысленно спрашивать, откуда она взялась и
почему равна именно этому значению.
Полностью в рамках теории относительности может существовать и великое множество более слож-
ных полей, также способных поработать в качестве вселенской пружины, но при этом имеющих какую-
то физическую природу, свойства, эволюцию. Таких моделей существуют десятки, если не сотни, и не-
которые из них результаты Вихлинина уже благополучно закрывают. Но если их авторам должно быть
обидно, то всем остальным эйнштейновская константа обещает спокойную, хотя и скучноватую жизнь.
Темное одиночество
Уже сейчас рост галактических скоплений практически закончился – более сложные структуры, чем
крупнейшие скопления наших дней, никогда уже не образуются. Например, Местная группа галактик,
в которой правят бал Туманность Андромеды и наша собственная Галактика, Млечный путь, никогда
не войдет в состав сверхскопления галактик в Деве, на окраинах которого мы сейчас находимся.
А вот дальнейшая судьба мира зависит от жесткости «вселенской пружины».
Если бы w была меньше –1, то плотность темной энергии с расширением бы только увеличивалась
(никакое известное нам вещество такими свойствами не обладает ). В результате рано или поздно от-
талкивание превозмогло бы притяжение любых известных нам объектов и привело бы к их разруше-
нию – сначала галактик, потом Солнечной системы, потом наших собственных тел. Это так называе-
мый «Большой разрыв». Представить, что это будет означать на практике, пока довольно сложно.
При жесткости, w в точности равной –1, плотность темной энергии при расширении не меняется, и
если Λ-член – все-таки последнее слово в рассказе о темной энергии, то нас ждет полностью пред-
сказуемое будущее. Млечный путь и Туманность Андромеды сольются ( этот процесс уже начался ),
на них упадут их мелкие спутники, и мы останемся в одиночестве. Расширение Вселенной будет про-
должаться бесконечно, и галактики Девы рано или поздно уплывут за горизонт нашего мира.
По словам Алексея Вихлинина, «через некоторое время нам нечего будет наблюдать, так что сейчас
самое подходящее время заниматься космологией».
Конечно, в тех 4% отличия жесткости темной энергии от уровня космологической постоянной, что
допускают результаты последних измерений, еще может обнаружиться ключ к какой-то иной, истин-
ной природе «космической пружины». Тех миллиардов лет, в течение которых космология не закон-
чится, для этого должно хватить.
gazeta.ru/science/2008/12/17_a_2912766.shtml
«Тёмная сила» новой физики
|
 В двух крупных экспериментах появились признаки "новой физики". Адронный коллайдер "Тэватрон"
зафиксировал рождение частиц там, где они не должны рождаться, а космический эксперимент
PAMELA нашёл следы распада частиц тёмной материи. Но оба факта удивительно хорошо ложатся в
единую теорию, предполагающую существование в мире "тёмной силы".
Пока на Большом адронном коллайдере (LHC) готовятся к ремонту после крупной сентябрьской аварии,
доживающий последние месяцы в статусе самого мощного ускорителя планеты американский «Тэва-
трон» преподнёс физикам неожиданный сюрприз. В конце прошлой недели сотрудники коллаборации
CDF, работающие на одноимённом гигантском детекторе частиц «Тэватрона», опубликовали препринт,
где описывают нечто, выходящее за рамки почти священной для физиков Стандартной модели элемен-
тарных частиц.
Если этот сигнал окажется не каким-то неучтённым фоновым эффектом, это открытие станет первым
земным свидетельством ограниченности Стандартной модели.
Земным в том смысле, что астрофизикам уже давно известны тёмная материя и тёмная энергия, также
в Стандартную модель не вписывающиеся. Правда, о свойствах частиц, из которых состоит тёмная
материя, практически ничего не известно.
«Тэватрон» и лишние мюоны
Стандартная модель физики элементарных частиц – теоретическая конструкция, описывающая элек-
тромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц. Стандартная модель не
включает в себя гравитацию...
С помощью детектора CDF физики изучают частицы, возникающие при столкновении протонов –
положительно заряженных частиц, входящих в состав всех атомных ядер, и антипротонов – их отри-
цательно заряженных антиподов. В ускорителе «Тэватрон», как и подсказывает его имя, эти частицы
ускорены до энергий почти в 1 ТэВ, или 1000 ГэВ – тысячу миллиардов электронвольт, а энергия
столкновения составляет, соответственно, почти 2000 ГэВ, что позволяет рождать самые разные, даже
очень массивные элементарные частицы.
Однако даже просто зафиксировать факт существования большинства интересующих частиц не полу-
чается. Как правило, они неустойчивы и за ничтожные доли секунды превращаются в несколько час-
тиц полегче. Именно свойства продуктов распада и измеряет детектор, а физики потом в соответствии
с известной метафорой «пытаются восстановить устройство часового механизма, рассматривая осколки
шестерёнок часов, столкнувшихся на околосветовой скорости».
Одна из самых популярных «шестерёнок» такого рода – мюон. По своим свойствам мюоны очень похо-
жи на обыкновенные электроны, вращающиеся вокруг атомных ядер. Однако мюоны гораздо массив-
нее, а потому для физиков-экспериментаторов представляют особую ценность. Во-первых, их труднее
«сбить с пути» при встречах с протонами и электронами детектора, а во-вторых, в самих столкновени-
ях их рождается меньше, и разобрать их следы в детекторе проще, чем запутанные траектории много-
численных электронов.
Одна из частиц, которую активно изучали с помощью мюонов, – это так называемый B-мезон, в состав
которого входит тяжёлый b-кварк (или антикварк).
И здесь мюоны долгое время водили экспериментаторов за нос.
Теория устройства и взаимодействия кварков – квантовая хромодинамика – позволяет вычислить веро-
ятность рождения B-мезонов и их участия в различных взаимодействиях. Отсюда можно оценить и ко-
личество мюонов, которые родятся при распаде этих частиц. Однако в эксперименте мюонов рожда-
лось существенно больше, чем планировалось. Более того, другой метод измерения свойств B-мезонов
показывал результаты, всё лучше и лучше согласующиеся с теорией. Так что оснований обвинять теоре-
тиков в том, что они не умеют считать (а расчёты в квантовой хромодинамике – вещь предельно слож-
ная), у экспериментаторов оставалось всё меньше.
Причина этих расхождений долгое время оставалось загадкой, пока учёные не выяснили, что часть
мюонов, которые физики долгое время принимали за продукты распада B-мезонов, на деле не имеют
к ним отношения. Дело в том, что живёт B-мезон очень недолго и, родившись при столкновении про-
тонов и антипротонов, успевает отлететь от оси вакуумной трубы, где происходят столкновения, лишь
на 1–2 мм. Здесь он распадается на мюоны. Когда учёные разобрались, где рождаются те мюоны, кото-
рые фиксировал их детектор, проблема B-мезонов решилась: как оказалось, часть их возникала гораздо
дальше от оси, и вклад этих «лишних мюонов» в финальный результат как раз и объяснял расхождение
с теорией.
Но откуда берутся те самые «лишние» мюоны?
Некоторые из них зарождаются и в 3 мм от оси, и в пяти, и в семи; некоторые и вовсе вне вакуумной
трубы, что уж совсем ни в какие ворота не лезет.
С этими частицами и связана зарождающаяся физическая «сенсация». Это редкое для почтенной науки
слово на самом деле как нельзя лучше характеризует возбуждение теоретиков и экспериментаторов.
На профессиональных блогах физиков уже вовсю бушуют дискуссии о реальности найденных коллабо-
рацией CDF сигналов, а на сайте электронных препринтов Корнельского университета уже третий
день подряд появляются всё новые и новые теоретические объяснения увиденному.
Новые частицы?
Следует отметить, что почти треть коллаборации – примерно 200 человек из 600 отказались ставить
свои подписи под статьёй, которая почти полгода проходила «внутренний аудит».
По словам самих участников CDF, причин этому много. Кто-то посчитал, что публикация преждевре-
менна. Кто-то считает, что наоборот – интерпретируя данные, коллективу стоило явно заявить, что
они обнаружили частицу. Третьим просто не нравится Паоло Джироними, который отвечал за подго-
товку публикации.
А кто-то был недоволен всем вышеперечисленным, однако оставил свою подпись под статьёй, рассу-
див, что шанс на то, что в ней описано что-то по-настоящему революционное, стоит того, чтобы риск-
нуть – даже если шанс невелик.
В принципе, причин для появления лишних, или, как говорят физики, «фоновых», частиц может быть
великое множество, и большая часть статьи коллаборации CDF как раз и посвящена разбору возмож-
ных причин появления сигнала, не апеллирующих к «новой физике» за пределами стандартной модели.
Может быть, мы не учли какие-то другие частицы, из которых рождаются мюоны, – например, косми-
ческие лучи, а может, мы принимаем за мюоны другие продукты распада частиц, рождающихся в
«Тэватроне»? Наконец, может, сами сигналы в детекторе, которые мы принимаем за следы мюонов,
таковыми не являются – шум, статистические флуктуации, артефакты зубодробительных методов мате-
матической обработки результатов эксперимента?
По словам авторов последней работы, найти «стандартного» объяснения им не удалось.
Всё выглядит так, будто найти удалось признаки существования какой-то новой частицы, живущей
гораздо дольше B-мезона, и ей нет места в известной нам физике. Впрочем, от такого прямого утверж-
дения учёные всё-таки воздерживаются: опыт целого поколения физиков, раз за разом убеждавшихся
в применимости стандартной модели к, казалось бы, совсем необъяснимым явлениям, даёт о себе знать.
Но просто игнорировать почти 100 тысяч событий, зарегистрированных одним из самых лучших при-
боров всё ещё самого мощного ускорителя Земли, нельзя.
Свойства «лишних» мюонов удивительны и сами по себе. Одно из самых поразительных состоит в том,
что они очень часто рождались «пачками» – не по одной частице, а по две, по три, даже по восемь штук
разом. Кроме того, как правило, из точки, в которой родились, они вылетали не во все стороны, а при-
мерно в одном направлении – учёные даже употребляют термин «мюонная струя». А характерная масса
новой неведомой частицы – если она действительно существует – составляет несколько ГэВ. Иначе
говоря, «новая физика» – если мы действительно начинаем различать её в мюонном тумане – начина-
ется на энергиях не в тысячи ГэВ, на которые устремлены монстры вроде LHC, а гораздо раньше.
И вот эти свойства поразительным образом сближают результаты с земного ускорителя с опубликован-
ными буквально несколькими днями ранее данными с космического детектора античастиц PAMELA.
В двух крупных экспериментах появились признаки "новой физики". Адронный коллайдер "Тэватрон"
зафиксировал рождение частиц там, где они не должны рождаться, а космический эксперимент
PAMELA нашёл следы распада частиц тёмной материи. Но оба факта удивительно хорошо ложатся в
единую теорию, предполагающую существование в мире "тёмной силы".
Пока на Большом адронном коллайдере (LHC) готовятся к ремонту после крупной сентябрьской аварии,
доживающий последние месяцы в статусе самого мощного ускорителя планеты американский «Тэва-
трон» преподнёс физикам неожиданный сюрприз. В конце прошлой недели сотрудники коллаборации
CDF, работающие на одноимённом гигантском детекторе частиц «Тэватрона», опубликовали препринт,
где описывают нечто, выходящее за рамки почти священной для физиков Стандартной модели элемен-
тарных частиц.
Если этот сигнал окажется не каким-то неучтённым фоновым эффектом, это открытие станет первым
земным свидетельством ограниченности Стандартной модели.
Земным в том смысле, что астрофизикам уже давно известны тёмная материя и тёмная энергия, также
в Стандартную модель не вписывающиеся. Правда, о свойствах частиц, из которых состоит тёмная
материя, практически ничего не известно.
«Тэватрон» и лишние мюоны
Стандартная модель физики элементарных частиц – теоретическая конструкция, описывающая элек-
тромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц. Стандартная модель не
включает в себя гравитацию...
С помощью детектора CDF физики изучают частицы, возникающие при столкновении протонов –
положительно заряженных частиц, входящих в состав всех атомных ядер, и антипротонов – их отри-
цательно заряженных антиподов. В ускорителе «Тэватрон», как и подсказывает его имя, эти частицы
ускорены до энергий почти в 1 ТэВ, или 1000 ГэВ – тысячу миллиардов электронвольт, а энергия
столкновения составляет, соответственно, почти 2000 ГэВ, что позволяет рождать самые разные, даже
очень массивные элементарные частицы.
Однако даже просто зафиксировать факт существования большинства интересующих частиц не полу-
чается. Как правило, они неустойчивы и за ничтожные доли секунды превращаются в несколько час-
тиц полегче. Именно свойства продуктов распада и измеряет детектор, а физики потом в соответствии
с известной метафорой «пытаются восстановить устройство часового механизма, рассматривая осколки
шестерёнок часов, столкнувшихся на околосветовой скорости».
Одна из самых популярных «шестерёнок» такого рода – мюон. По своим свойствам мюоны очень похо-
жи на обыкновенные электроны, вращающиеся вокруг атомных ядер. Однако мюоны гораздо массив-
нее, а потому для физиков-экспериментаторов представляют особую ценность. Во-первых, их труднее
«сбить с пути» при встречах с протонами и электронами детектора, а во-вторых, в самих столкновени-
ях их рождается меньше, и разобрать их следы в детекторе проще, чем запутанные траектории много-
численных электронов.
Одна из частиц, которую активно изучали с помощью мюонов, – это так называемый B-мезон, в состав
которого входит тяжёлый b-кварк (или антикварк).
И здесь мюоны долгое время водили экспериментаторов за нос.
Теория устройства и взаимодействия кварков – квантовая хромодинамика – позволяет вычислить веро-
ятность рождения B-мезонов и их участия в различных взаимодействиях. Отсюда можно оценить и ко-
личество мюонов, которые родятся при распаде этих частиц. Однако в эксперименте мюонов рожда-
лось существенно больше, чем планировалось. Более того, другой метод измерения свойств B-мезонов
показывал результаты, всё лучше и лучше согласующиеся с теорией. Так что оснований обвинять теоре-
тиков в том, что они не умеют считать (а расчёты в квантовой хромодинамике – вещь предельно слож-
ная), у экспериментаторов оставалось всё меньше.
Причина этих расхождений долгое время оставалось загадкой, пока учёные не выяснили, что часть
мюонов, которые физики долгое время принимали за продукты распада B-мезонов, на деле не имеют
к ним отношения. Дело в том, что живёт B-мезон очень недолго и, родившись при столкновении про-
тонов и антипротонов, успевает отлететь от оси вакуумной трубы, где происходят столкновения, лишь
на 1–2 мм. Здесь он распадается на мюоны. Когда учёные разобрались, где рождаются те мюоны, кото-
рые фиксировал их детектор, проблема B-мезонов решилась: как оказалось, часть их возникала гораздо
дальше от оси, и вклад этих «лишних мюонов» в финальный результат как раз и объяснял расхождение
с теорией.
Но откуда берутся те самые «лишние» мюоны?
Некоторые из них зарождаются и в 3 мм от оси, и в пяти, и в семи; некоторые и вовсе вне вакуумной
трубы, что уж совсем ни в какие ворота не лезет.
С этими частицами и связана зарождающаяся физическая «сенсация». Это редкое для почтенной науки
слово на самом деле как нельзя лучше характеризует возбуждение теоретиков и экспериментаторов.
На профессиональных блогах физиков уже вовсю бушуют дискуссии о реальности найденных коллабо-
рацией CDF сигналов, а на сайте электронных препринтов Корнельского университета уже третий
день подряд появляются всё новые и новые теоретические объяснения увиденному.
Новые частицы?
Следует отметить, что почти треть коллаборации – примерно 200 человек из 600 отказались ставить
свои подписи под статьёй, которая почти полгода проходила «внутренний аудит».
По словам самих участников CDF, причин этому много. Кто-то посчитал, что публикация преждевре-
менна. Кто-то считает, что наоборот – интерпретируя данные, коллективу стоило явно заявить, что
они обнаружили частицу. Третьим просто не нравится Паоло Джироними, который отвечал за подго-
товку публикации.
А кто-то был недоволен всем вышеперечисленным, однако оставил свою подпись под статьёй, рассу-
див, что шанс на то, что в ней описано что-то по-настоящему революционное, стоит того, чтобы риск-
нуть – даже если шанс невелик.
В принципе, причин для появления лишних, или, как говорят физики, «фоновых», частиц может быть
великое множество, и большая часть статьи коллаборации CDF как раз и посвящена разбору возмож-
ных причин появления сигнала, не апеллирующих к «новой физике» за пределами стандартной модели.
Может быть, мы не учли какие-то другие частицы, из которых рождаются мюоны, – например, косми-
ческие лучи, а может, мы принимаем за мюоны другие продукты распада частиц, рождающихся в
«Тэватроне»? Наконец, может, сами сигналы в детекторе, которые мы принимаем за следы мюонов,
таковыми не являются – шум, статистические флуктуации, артефакты зубодробительных методов мате-
матической обработки результатов эксперимента?
По словам авторов последней работы, найти «стандартного» объяснения им не удалось.
Всё выглядит так, будто найти удалось признаки существования какой-то новой частицы, живущей
гораздо дольше B-мезона, и ей нет места в известной нам физике. Впрочем, от такого прямого утверж-
дения учёные всё-таки воздерживаются: опыт целого поколения физиков, раз за разом убеждавшихся
в применимости стандартной модели к, казалось бы, совсем необъяснимым явлениям, даёт о себе знать.
Но просто игнорировать почти 100 тысяч событий, зарегистрированных одним из самых лучших при-
боров всё ещё самого мощного ускорителя Земли, нельзя.
Свойства «лишних» мюонов удивительны и сами по себе. Одно из самых поразительных состоит в том,
что они очень часто рождались «пачками» – не по одной частице, а по две, по три, даже по восемь штук
разом. Кроме того, как правило, из точки, в которой родились, они вылетали не во все стороны, а при-
мерно в одном направлении – учёные даже употребляют термин «мюонная струя». А характерная масса
новой неведомой частицы – если она действительно существует – составляет несколько ГэВ. Иначе
говоря, «новая физика» – если мы действительно начинаем различать её в мюонном тумане – начина-
ется на энергиях не в тысячи ГэВ, на которые устремлены монстры вроде LHC, а гораздо раньше.
И вот эти свойства поразительным образом сближают результаты с земного ускорителя с опубликован-
ными буквально несколькими днями ранее данными с космического детектора античастиц PAMELA.
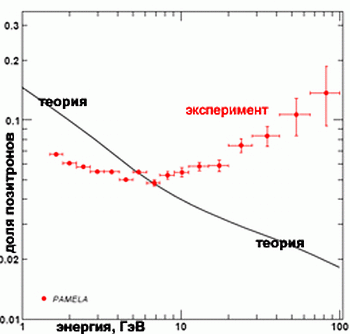 Доля позитронов, как функция энергии // Группа PAMELA, arXiv.org
Результаты эксперимента PAMELA
Международный исследовательский аппарат PAMELA на борту российского искусственного спутника
«Ресурс-ДК1» надёжно зафиксировал избыток позитронов высоких энергий в потоке заряженных кос-
мических...
По мнению многих астрофизиков, избыток высокоэнергичных позитронов ( античастиц к электронам)
в составе космических лучей возникает из-за распада или аннигиляции частиц загадочной тёмной мате-
рии. Это другой элемент физики за пределами Стандартной модели, о существовании которого (и даже
доминировании по массе) астрономы давно знают, но ничего путного сказать не могут: на то она и тём-
ная материя, что её не видно, и своё присутствие выдаёт лишь через гравитацию.
Тёмная сила
Как оказалось, у квартета теоретиков из Принстона, Гарварда и Нью-Йорка уже готово объяснение ре-
зультатам PAMELA, которое пришлось как нельзя кстати к новым данным с «Тэватрона». По мнению
Нимы Арканихамеда и его коллег, в рамках их суперсимметричной модели единое и естественное
объяснение получают избыток позитронов, надёжно измеренный аппаратом PAMELA, едва различи-
мый избыток гамма-лучей, приходящих, казалось бы, из ниоткуда, и туманное свечение центра галак-
тики в гамма- и радиолучах, зафиксированные другими астрофизическими спутниками.
В соответствии с моделью частицы тёмной материи имеют массу порядка 1000 ГэВ и не участвуют в
известных нам взаимодействиях. Однако они действуют друг на друга с помощью короткодействующей
«тёмной» силы, которую переносит другая тёмная частица с массой около 1 ГэВ. Иными словами, к
трём обычным видам взаимодействия, действующим лишь на обычное вещество ( электромагнитному
и ядерному, слабому и сильному), добавляется ещё одно, действующее лишь в мире тёмной материи.
Гравитация, как водится, стоит особняком, связывая оба мира.
«Тёмная» сила понадобилась теоретикам для того, чтобы связать частицы тёмной материи в своего
рода «атомы», в которых одна из тёмных частиц имеет отрицательный «тёмный заряд», а другая –
положительный «тёмный заряд». Только наличие подобного заряда позволяет тёмной материи анни-
гилировать достаточно интенсивно, чтобы объяснить результаты астрофизических наблюдений ( это
так называемый механизм Зоммерфельда).
Однако частица – переносчик «тёмной» силы уже может напрямую распадаться с испусканием обыч-
ных частиц, и именно она может быть ответственна за появление «лишних» мюонов.
Более того, распад заряженных тёмным зарядом тёмных частиц естественным образом идёт каскадом,
пока не упрётся в самую лёгкую стабильную тёмную частицу, распадаться которой уже не во что. В
каждый шаг этого каскада вовлечена частица – переносчик тёмной силы, и потому на каждом шаге
может появиться лишний мюон. Вот вам и мюоны «пачками». Ну а тот факт, что все они вылетают в
одном направлении, связан просто с тем, что распадающаяся частица движется быстро – так заряды
праздничного салюта, взрывающиеся, не долетев до высшей точки своей траектории, выбрасывают
вперёд целые фонтаны ярких огней. Вот вам и «струи».
Правда, как отмечает специалист по физике высоких энергий Игорь Иванов, лишних мюонных собы-
тий на CDF получается слишком много – Арканихамед и его коллеги предполагали, что появление
мюонных струй будет крайне редким сигналом. Но нет сомнений, что публикация данных коллабора-
циями CDF и PAMELA приведёт к появлению в ближайшие месяцы десятков, а может, и сотен воз-
можных объяснений. Так что зацикливаться на модели Арканихамеда, может быть, и не стоит. Пока
её выделяет лишь то, что она оказалась ко двору при интерпретации и тех и других данных.
Конечно, не исключено, что оба экспериментальных результата получат более тривиальные объясне-
ния. «Лишние мюоны» могут оказаться не более чем неучтённым инструментальным эффектом гигант-
ской установки CDF, а «лишние позитроны» – генерироваться в окрестностях нейтронных звёзд нашей
Галактики.
Но перспективы интригуют. В мире тёмной материи, ещё недавно казавшейся бесформенной мутью,
за которой астрономы прячут своё непонимание устройства мира, начала вырисовываться структура –
какие-то взаимодействия, «тёмные заряды», «тёмные атомы». Может быть, физика не кончилась, и но-
вым поколениям учёных будет что изучать в «тёмном мире».
gazeta.ru/science/2008/11/05_a_2874171.shtml
Доля позитронов, как функция энергии // Группа PAMELA, arXiv.org
Результаты эксперимента PAMELA
Международный исследовательский аппарат PAMELA на борту российского искусственного спутника
«Ресурс-ДК1» надёжно зафиксировал избыток позитронов высоких энергий в потоке заряженных кос-
мических...
По мнению многих астрофизиков, избыток высокоэнергичных позитронов ( античастиц к электронам)
в составе космических лучей возникает из-за распада или аннигиляции частиц загадочной тёмной мате-
рии. Это другой элемент физики за пределами Стандартной модели, о существовании которого (и даже
доминировании по массе) астрономы давно знают, но ничего путного сказать не могут: на то она и тём-
ная материя, что её не видно, и своё присутствие выдаёт лишь через гравитацию.
Тёмная сила
Как оказалось, у квартета теоретиков из Принстона, Гарварда и Нью-Йорка уже готово объяснение ре-
зультатам PAMELA, которое пришлось как нельзя кстати к новым данным с «Тэватрона». По мнению
Нимы Арканихамеда и его коллег, в рамках их суперсимметричной модели единое и естественное
объяснение получают избыток позитронов, надёжно измеренный аппаратом PAMELA, едва различи-
мый избыток гамма-лучей, приходящих, казалось бы, из ниоткуда, и туманное свечение центра галак-
тики в гамма- и радиолучах, зафиксированные другими астрофизическими спутниками.
В соответствии с моделью частицы тёмной материи имеют массу порядка 1000 ГэВ и не участвуют в
известных нам взаимодействиях. Однако они действуют друг на друга с помощью короткодействующей
«тёмной» силы, которую переносит другая тёмная частица с массой около 1 ГэВ. Иными словами, к
трём обычным видам взаимодействия, действующим лишь на обычное вещество ( электромагнитному
и ядерному, слабому и сильному), добавляется ещё одно, действующее лишь в мире тёмной материи.
Гравитация, как водится, стоит особняком, связывая оба мира.
«Тёмная» сила понадобилась теоретикам для того, чтобы связать частицы тёмной материи в своего
рода «атомы», в которых одна из тёмных частиц имеет отрицательный «тёмный заряд», а другая –
положительный «тёмный заряд». Только наличие подобного заряда позволяет тёмной материи анни-
гилировать достаточно интенсивно, чтобы объяснить результаты астрофизических наблюдений ( это
так называемый механизм Зоммерфельда).
Однако частица – переносчик «тёмной» силы уже может напрямую распадаться с испусканием обыч-
ных частиц, и именно она может быть ответственна за появление «лишних» мюонов.
Более того, распад заряженных тёмным зарядом тёмных частиц естественным образом идёт каскадом,
пока не упрётся в самую лёгкую стабильную тёмную частицу, распадаться которой уже не во что. В
каждый шаг этого каскада вовлечена частица – переносчик тёмной силы, и потому на каждом шаге
может появиться лишний мюон. Вот вам и мюоны «пачками». Ну а тот факт, что все они вылетают в
одном направлении, связан просто с тем, что распадающаяся частица движется быстро – так заряды
праздничного салюта, взрывающиеся, не долетев до высшей точки своей траектории, выбрасывают
вперёд целые фонтаны ярких огней. Вот вам и «струи».
Правда, как отмечает специалист по физике высоких энергий Игорь Иванов, лишних мюонных собы-
тий на CDF получается слишком много – Арканихамед и его коллеги предполагали, что появление
мюонных струй будет крайне редким сигналом. Но нет сомнений, что публикация данных коллабора-
циями CDF и PAMELA приведёт к появлению в ближайшие месяцы десятков, а может, и сотен воз-
можных объяснений. Так что зацикливаться на модели Арканихамеда, может быть, и не стоит. Пока
её выделяет лишь то, что она оказалась ко двору при интерпретации и тех и других данных.
Конечно, не исключено, что оба экспериментальных результата получат более тривиальные объясне-
ния. «Лишние мюоны» могут оказаться не более чем неучтённым инструментальным эффектом гигант-
ской установки CDF, а «лишние позитроны» – генерироваться в окрестностях нейтронных звёзд нашей
Галактики.
Но перспективы интригуют. В мире тёмной материи, ещё недавно казавшейся бесформенной мутью,
за которой астрономы прячут своё непонимание устройства мира, начала вырисовываться структура –
какие-то взаимодействия, «тёмные заряды», «тёмные атомы». Может быть, физика не кончилась, и но-
вым поколениям учёных будет что изучать в «тёмном мире».
gazeta.ru/science/2008/11/05_a_2874171.shtml

меню содержание news303 news304 news305
 Скопление галактик Abell 85. На оптическое изображение, полученное телескопом обзора SDSS,
наложено лиловое изображение рентгеновского свечения горячего межгалактического газа в
скоплении, полученное с помощью орбитальной обсерватории Chandra. По свойствам этого
свечения можно надёжно определить массу всего скопления. // NASA /CXC /SAO
Алексей Вихлинин получил премию имени Росси 2008 года
За выдающийся вклад в изучение астрофизики высоких энергий Американское астрономическое об-
щество ( Отделение астрофизики высоких энергий) присудило премии имени Бруно Росси 2008 года
двум российским астрофизикам...
Вихлинин и его коллеги проследили за ростом скоплений галактик в течение последних 7 миллиардов
лет, воспользовавшись данными космической рентгеновской обсерватории Chandra. С ее помощью
астрономы получили рентгеновские снимки 86 скоплений и определили их массу по характеристикам
свечения горячего межгалактического газа ( например, по температуре – она тем выше, чем глубже об-
щая потенциальная яма, созданная притяжением галактик). После этого ученые сравнили, как характер-
ные массы скоплений менялись с течением времени.
В принципе, вся история нашей Вселенной – это история иерархического роста все более крупных и
все более контрастных гравитационно связанных структур. Через 300 тысяч лет после Большого взрыва
– это самое глубокое прошлое нашего мира, которое пока удается наблюдать, – характерные неоднород-
ности в плотности вещества составляли лишь тысячные доли процента. С тех пор под действием силы
тяжести эти неоднородности росли, и в какой-то момент появились первые обособленные сгустки ма-
терии. На них падал газ, сами сгустки сливались, образуя зародыши первых карликовых галактик. Те, в
свою очередь, сливались в крупные галактики вроде Млечного пути, объединялись в группы, а затем
скопления, в которых становилось все больше и больше членов.
Поэтому в среднем ближайшие к нам скопления галактик массивнее далеких: свет от последних шел
миллиарды лет, а потому видим их мы молодыми, еще не захватившими соседние галактики.
Однако, как показали авторы последней работы, этот рост в последние миллиарды лет замедлился.
Сам Алексей Вихлинин, заимствуя термин из медицины, называет происходящее «задержкой развития».
Полноценно развиваться скоплениям помешала темная энергия, которая расталкивает галактики в
окрестностях растущего гиганта и тем мешает ему захватывать массу. Тяготение скопления в такой си-
туации чем-то напоминает неудачливого любителя пива. Представьте, что вы пришли за напитком в
супермаркет, катите тележку к длинным полкам с любимым дюнкелем, а прямо перед вами товароведы
сгружают бутылки на поддоны и увозят обратно на склад. И как вы ни тяните руки к пенному напитку,
у профессионалов дело спорится быстрее. Обидно? Это темная энергия.
Если бы не она, из таких скоплений, что мы видим на расстояниях в 7 миллиардов световых лет, за
долгие годы получились бы куда более увесистые образования, чем те, что видны на расстоянии в 2–3
миллиарда световых лет и ближе. Притом речь идет не о каких-то маленьких поправках – в моделях
без темной энергии таких скоплений, которые мы считаем крупнейшими, к настоящему времени было
бы в несколько раз больше.
Опять Эйнштейн и та же ?
Особенно важно, что существование темной энергии впервые доказано способом, совершенно не за-
висимым от данных по сверхновым. Это подтверждает – насколько вообще возможно подтвердить
правильность физической теории – применимость теории относительности на космологических масш-
табах.
Соавтор работы Билл Форман в ходе организованной NASA во вторник пресс-конференции вспомнил
Джона Уиллера, сформулировавшего суть общей теории относительности в формуле: «Материя решает,
как пространству гнуться, пространство решает, как материи двигаться».
До сих пор ученые восстанавливали свойства темной энергии ( это тоже форма материи ) из первой
части афоризма. Вихлинин и его коллеги задействовали вторую его половину и получили тот же ре-
зультат, что вовсе не было гарантировано изначально. Получись здесь противоречие, астрофизики уже
наперебой предлагали бы альтернативные «обобщения» теории относительности.
Скопление галактик Abell 85. На оптическое изображение, полученное телескопом обзора SDSS,
наложено лиловое изображение рентгеновского свечения горячего межгалактического газа в
скоплении, полученное с помощью орбитальной обсерватории Chandra. По свойствам этого
свечения можно надёжно определить массу всего скопления. // NASA /CXC /SAO
Алексей Вихлинин получил премию имени Росси 2008 года
За выдающийся вклад в изучение астрофизики высоких энергий Американское астрономическое об-
щество ( Отделение астрофизики высоких энергий) присудило премии имени Бруно Росси 2008 года
двум российским астрофизикам...
Вихлинин и его коллеги проследили за ростом скоплений галактик в течение последних 7 миллиардов
лет, воспользовавшись данными космической рентгеновской обсерватории Chandra. С ее помощью
астрономы получили рентгеновские снимки 86 скоплений и определили их массу по характеристикам
свечения горячего межгалактического газа ( например, по температуре – она тем выше, чем глубже об-
щая потенциальная яма, созданная притяжением галактик). После этого ученые сравнили, как характер-
ные массы скоплений менялись с течением времени.
В принципе, вся история нашей Вселенной – это история иерархического роста все более крупных и
все более контрастных гравитационно связанных структур. Через 300 тысяч лет после Большого взрыва
– это самое глубокое прошлое нашего мира, которое пока удается наблюдать, – характерные неоднород-
ности в плотности вещества составляли лишь тысячные доли процента. С тех пор под действием силы
тяжести эти неоднородности росли, и в какой-то момент появились первые обособленные сгустки ма-
терии. На них падал газ, сами сгустки сливались, образуя зародыши первых карликовых галактик. Те, в
свою очередь, сливались в крупные галактики вроде Млечного пути, объединялись в группы, а затем
скопления, в которых становилось все больше и больше членов.
Поэтому в среднем ближайшие к нам скопления галактик массивнее далеких: свет от последних шел
миллиарды лет, а потому видим их мы молодыми, еще не захватившими соседние галактики.
Однако, как показали авторы последней работы, этот рост в последние миллиарды лет замедлился.
Сам Алексей Вихлинин, заимствуя термин из медицины, называет происходящее «задержкой развития».
Полноценно развиваться скоплениям помешала темная энергия, которая расталкивает галактики в
окрестностях растущего гиганта и тем мешает ему захватывать массу. Тяготение скопления в такой си-
туации чем-то напоминает неудачливого любителя пива. Представьте, что вы пришли за напитком в
супермаркет, катите тележку к длинным полкам с любимым дюнкелем, а прямо перед вами товароведы
сгружают бутылки на поддоны и увозят обратно на склад. И как вы ни тяните руки к пенному напитку,
у профессионалов дело спорится быстрее. Обидно? Это темная энергия.
Если бы не она, из таких скоплений, что мы видим на расстояниях в 7 миллиардов световых лет, за
долгие годы получились бы куда более увесистые образования, чем те, что видны на расстоянии в 2–3
миллиарда световых лет и ближе. Притом речь идет не о каких-то маленьких поправках – в моделях
без темной энергии таких скоплений, которые мы считаем крупнейшими, к настоящему времени было
бы в несколько раз больше.
Опять Эйнштейн и та же ?
Особенно важно, что существование темной энергии впервые доказано способом, совершенно не за-
висимым от данных по сверхновым. Это подтверждает – насколько вообще возможно подтвердить
правильность физической теории – применимость теории относительности на космологических масш-
табах.
Соавтор работы Билл Форман в ходе организованной NASA во вторник пресс-конференции вспомнил
Джона Уиллера, сформулировавшего суть общей теории относительности в формуле: «Материя решает,
как пространству гнуться, пространство решает, как материи двигаться».
До сих пор ученые восстанавливали свойства темной энергии ( это тоже форма материи ) из первой
части афоризма. Вихлинин и его коллеги задействовали вторую его половину и получили тот же ре-
зультат, что вовсе не было гарантировано изначально. Получись здесь противоречие, астрофизики уже
наперебой предлагали бы альтернативные «обобщения» теории относительности.
 Эволюция Вселенной. После Большого взрыва расширение Вселенной поначалу замедлялось
за счёт взаимного притяжения вещества. Приблизительно 5 миллиардов лет назад «антигра-
витация» тёмной энергии стала сильнее притяжения вещества, плотность которого при расши-
рении падает, и замедление сменилось ускорением. // NASA /CXC /SAO
Астрономы разрушат Вселенную
Тёмная энергия подтверждает своё зловещее название. Она в любой момент может превратиться в
вещество, разрушив тот мир, который мы знаем. И работа астрономов лишь ускоряет этот процесс...
Однако результаты сходятся. Объединяя все данные вместе, авторы последней работы получили наи-
более точные на сегодняшний день оценки свойств темной энергии – ее плотности и величины w,
соответствующей жесткости «вселенской пружины».
Плотность загадочной субстанции составляет примерно 74% плюс-минус 1% от средней плотности
всего сущего, «жесткость» равна –0,99 плюс-минус 0,04.
Никаких признаков изменения плотности или жесткости в пространстве во времени ученые не заме-
тили.
И это немного разочаровывает. Дело в том, что постоянство плотности w=–1 в точности соответствует
Λ-члену, введенному в уравнения еще самим Эйнштейном. Вместе с тем, это лишь самая простая модель
темной энергии, предполагающая некоторую упругость, антигравитацию самого пространства. И ее
плотность – фундаментальная константа, про которую бессмысленно спрашивать, откуда она взялась и
почему равна именно этому значению.
Полностью в рамках теории относительности может существовать и великое множество более слож-
ных полей, также способных поработать в качестве вселенской пружины, но при этом имеющих какую-
то физическую природу, свойства, эволюцию. Таких моделей существуют десятки, если не сотни, и не-
которые из них результаты Вихлинина уже благополучно закрывают. Но если их авторам должно быть
обидно, то всем остальным эйнштейновская константа обещает спокойную, хотя и скучноватую жизнь.
Темное одиночество
Уже сейчас рост галактических скоплений практически закончился – более сложные структуры, чем
крупнейшие скопления наших дней, никогда уже не образуются. Например, Местная группа галактик,
в которой правят бал Туманность Андромеды и наша собственная Галактика, Млечный путь, никогда
не войдет в состав сверхскопления галактик в Деве, на окраинах которого мы сейчас находимся.
А вот дальнейшая судьба мира зависит от жесткости «вселенской пружины».
Если бы w была меньше –1, то плотность темной энергии с расширением бы только увеличивалась
(никакое известное нам вещество такими свойствами не обладает ). В результате рано или поздно от-
талкивание превозмогло бы притяжение любых известных нам объектов и привело бы к их разруше-
нию – сначала галактик, потом Солнечной системы, потом наших собственных тел. Это так называе-
мый «Большой разрыв». Представить, что это будет означать на практике, пока довольно сложно.
При жесткости, w в точности равной –1, плотность темной энергии при расширении не меняется, и
если Λ-член – все-таки последнее слово в рассказе о темной энергии, то нас ждет полностью пред-
сказуемое будущее. Млечный путь и Туманность Андромеды сольются ( этот процесс уже начался ),
на них упадут их мелкие спутники, и мы останемся в одиночестве. Расширение Вселенной будет про-
должаться бесконечно, и галактики Девы рано или поздно уплывут за горизонт нашего мира.
По словам Алексея Вихлинина, «через некоторое время нам нечего будет наблюдать, так что сейчас
самое подходящее время заниматься космологией».
Конечно, в тех 4% отличия жесткости темной энергии от уровня космологической постоянной, что
допускают результаты последних измерений, еще может обнаружиться ключ к какой-то иной, истин-
ной природе «космической пружины». Тех миллиардов лет, в течение которых космология не закон-
чится, для этого должно хватить.
gazeta.ru/science/2008/12/17_a_2912766.shtml
Эволюция Вселенной. После Большого взрыва расширение Вселенной поначалу замедлялось
за счёт взаимного притяжения вещества. Приблизительно 5 миллиардов лет назад «антигра-
витация» тёмной энергии стала сильнее притяжения вещества, плотность которого при расши-
рении падает, и замедление сменилось ускорением. // NASA /CXC /SAO
Астрономы разрушат Вселенную
Тёмная энергия подтверждает своё зловещее название. Она в любой момент может превратиться в
вещество, разрушив тот мир, который мы знаем. И работа астрономов лишь ускоряет этот процесс...
Однако результаты сходятся. Объединяя все данные вместе, авторы последней работы получили наи-
более точные на сегодняшний день оценки свойств темной энергии – ее плотности и величины w,
соответствующей жесткости «вселенской пружины».
Плотность загадочной субстанции составляет примерно 74% плюс-минус 1% от средней плотности
всего сущего, «жесткость» равна –0,99 плюс-минус 0,04.
Никаких признаков изменения плотности или жесткости в пространстве во времени ученые не заме-
тили.
И это немного разочаровывает. Дело в том, что постоянство плотности w=–1 в точности соответствует
Λ-члену, введенному в уравнения еще самим Эйнштейном. Вместе с тем, это лишь самая простая модель
темной энергии, предполагающая некоторую упругость, антигравитацию самого пространства. И ее
плотность – фундаментальная константа, про которую бессмысленно спрашивать, откуда она взялась и
почему равна именно этому значению.
Полностью в рамках теории относительности может существовать и великое множество более слож-
ных полей, также способных поработать в качестве вселенской пружины, но при этом имеющих какую-
то физическую природу, свойства, эволюцию. Таких моделей существуют десятки, если не сотни, и не-
которые из них результаты Вихлинина уже благополучно закрывают. Но если их авторам должно быть
обидно, то всем остальным эйнштейновская константа обещает спокойную, хотя и скучноватую жизнь.
Темное одиночество
Уже сейчас рост галактических скоплений практически закончился – более сложные структуры, чем
крупнейшие скопления наших дней, никогда уже не образуются. Например, Местная группа галактик,
в которой правят бал Туманность Андромеды и наша собственная Галактика, Млечный путь, никогда
не войдет в состав сверхскопления галактик в Деве, на окраинах которого мы сейчас находимся.
А вот дальнейшая судьба мира зависит от жесткости «вселенской пружины».
Если бы w была меньше –1, то плотность темной энергии с расширением бы только увеличивалась
(никакое известное нам вещество такими свойствами не обладает ). В результате рано или поздно от-
талкивание превозмогло бы притяжение любых известных нам объектов и привело бы к их разруше-
нию – сначала галактик, потом Солнечной системы, потом наших собственных тел. Это так называе-
мый «Большой разрыв». Представить, что это будет означать на практике, пока довольно сложно.
При жесткости, w в точности равной –1, плотность темной энергии при расширении не меняется, и
если Λ-член – все-таки последнее слово в рассказе о темной энергии, то нас ждет полностью пред-
сказуемое будущее. Млечный путь и Туманность Андромеды сольются ( этот процесс уже начался ),
на них упадут их мелкие спутники, и мы останемся в одиночестве. Расширение Вселенной будет про-
должаться бесконечно, и галактики Девы рано или поздно уплывут за горизонт нашего мира.
По словам Алексея Вихлинина, «через некоторое время нам нечего будет наблюдать, так что сейчас
самое подходящее время заниматься космологией».
Конечно, в тех 4% отличия жесткости темной энергии от уровня космологической постоянной, что
допускают результаты последних измерений, еще может обнаружиться ключ к какой-то иной, истин-
ной природе «космической пружины». Тех миллиардов лет, в течение которых космология не закон-
чится, для этого должно хватить.
gazeta.ru/science/2008/12/17_a_2912766.shtml
В двух крупных экспериментах появились признаки "новой физики". Адронный коллайдер "Тэватрон" зафиксировал рождение частиц там, где они не должны рождаться, а космический эксперимент PAMELA нашёл следы распада частиц тёмной материи. Но оба факта удивительно хорошо ложатся в единую теорию, предполагающую существование в мире "тёмной силы". Пока на Большом адронном коллайдере (LHC) готовятся к ремонту после крупной сентябрьской аварии, доживающий последние месяцы в статусе самого мощного ускорителя планеты американский «Тэва- трон» преподнёс физикам неожиданный сюрприз. В конце прошлой недели сотрудники коллаборации CDF, работающие на одноимённом гигантском детекторе частиц «Тэватрона», опубликовали препринт, где описывают нечто, выходящее за рамки почти священной для физиков Стандартной модели элемен- тарных частиц. Если этот сигнал окажется не каким-то неучтённым фоновым эффектом, это открытие станет первым земным свидетельством ограниченности Стандартной модели. Земным в том смысле, что астрофизикам уже давно известны тёмная материя и тёмная энергия, также в Стандартную модель не вписывающиеся. Правда, о свойствах частиц, из которых состоит тёмная материя, практически ничего не известно. «Тэватрон» и лишние мюоны Стандартная модель физики элементарных частиц – теоретическая конструкция, описывающая элек- тромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц. Стандартная модель не включает в себя гравитацию... С помощью детектора CDF физики изучают частицы, возникающие при столкновении протонов – положительно заряженных частиц, входящих в состав всех атомных ядер, и антипротонов – их отри- цательно заряженных антиподов. В ускорителе «Тэватрон», как и подсказывает его имя, эти частицы ускорены до энергий почти в 1 ТэВ, или 1000 ГэВ – тысячу миллиардов электронвольт, а энергия столкновения составляет, соответственно, почти 2000 ГэВ, что позволяет рождать самые разные, даже очень массивные элементарные частицы. Однако даже просто зафиксировать факт существования большинства интересующих частиц не полу- чается. Как правило, они неустойчивы и за ничтожные доли секунды превращаются в несколько час- тиц полегче. Именно свойства продуктов распада и измеряет детектор, а физики потом в соответствии с известной метафорой «пытаются восстановить устройство часового механизма, рассматривая осколки шестерёнок часов, столкнувшихся на околосветовой скорости». Одна из самых популярных «шестерёнок» такого рода – мюон. По своим свойствам мюоны очень похо- жи на обыкновенные электроны, вращающиеся вокруг атомных ядер. Однако мюоны гораздо массив- нее, а потому для физиков-экспериментаторов представляют особую ценность. Во-первых, их труднее «сбить с пути» при встречах с протонами и электронами детектора, а во-вторых, в самих столкновени- ях их рождается меньше, и разобрать их следы в детекторе проще, чем запутанные траектории много- численных электронов. Одна из частиц, которую активно изучали с помощью мюонов, – это так называемый B-мезон, в состав которого входит тяжёлый b-кварк (или антикварк). И здесь мюоны долгое время водили экспериментаторов за нос. Теория устройства и взаимодействия кварков – квантовая хромодинамика – позволяет вычислить веро- ятность рождения B-мезонов и их участия в различных взаимодействиях. Отсюда можно оценить и ко- личество мюонов, которые родятся при распаде этих частиц. Однако в эксперименте мюонов рожда- лось существенно больше, чем планировалось. Более того, другой метод измерения свойств B-мезонов показывал результаты, всё лучше и лучше согласующиеся с теорией. Так что оснований обвинять теоре- тиков в том, что они не умеют считать (а расчёты в квантовой хромодинамике – вещь предельно слож- ная), у экспериментаторов оставалось всё меньше. Причина этих расхождений долгое время оставалось загадкой, пока учёные не выяснили, что часть мюонов, которые физики долгое время принимали за продукты распада B-мезонов, на деле не имеют к ним отношения. Дело в том, что живёт B-мезон очень недолго и, родившись при столкновении про- тонов и антипротонов, успевает отлететь от оси вакуумной трубы, где происходят столкновения, лишь на 1–2 мм. Здесь он распадается на мюоны. Когда учёные разобрались, где рождаются те мюоны, кото- рые фиксировал их детектор, проблема B-мезонов решилась: как оказалось, часть их возникала гораздо дальше от оси, и вклад этих «лишних мюонов» в финальный результат как раз и объяснял расхождение с теорией. Но откуда берутся те самые «лишние» мюоны? Некоторые из них зарождаются и в 3 мм от оси, и в пяти, и в семи; некоторые и вовсе вне вакуумной трубы, что уж совсем ни в какие ворота не лезет. С этими частицами и связана зарождающаяся физическая «сенсация». Это редкое для почтенной науки слово на самом деле как нельзя лучше характеризует возбуждение теоретиков и экспериментаторов. На профессиональных блогах физиков уже вовсю бушуют дискуссии о реальности найденных коллабо- рацией CDF сигналов, а на сайте электронных препринтов Корнельского университета уже третий день подряд появляются всё новые и новые теоретические объяснения увиденному. Новые частицы? Следует отметить, что почти треть коллаборации – примерно 200 человек из 600 отказались ставить свои подписи под статьёй, которая почти полгода проходила «внутренний аудит». По словам самих участников CDF, причин этому много. Кто-то посчитал, что публикация преждевре- менна. Кто-то считает, что наоборот – интерпретируя данные, коллективу стоило явно заявить, что они обнаружили частицу. Третьим просто не нравится Паоло Джироними, который отвечал за подго- товку публикации. А кто-то был недоволен всем вышеперечисленным, однако оставил свою подпись под статьёй, рассу- див, что шанс на то, что в ней описано что-то по-настоящему революционное, стоит того, чтобы риск- нуть – даже если шанс невелик. В принципе, причин для появления лишних, или, как говорят физики, «фоновых», частиц может быть великое множество, и большая часть статьи коллаборации CDF как раз и посвящена разбору возмож- ных причин появления сигнала, не апеллирующих к «новой физике» за пределами стандартной модели. Может быть, мы не учли какие-то другие частицы, из которых рождаются мюоны, – например, косми- ческие лучи, а может, мы принимаем за мюоны другие продукты распада частиц, рождающихся в «Тэватроне»? Наконец, может, сами сигналы в детекторе, которые мы принимаем за следы мюонов, таковыми не являются – шум, статистические флуктуации, артефакты зубодробительных методов мате- матической обработки результатов эксперимента? По словам авторов последней работы, найти «стандартного» объяснения им не удалось. Всё выглядит так, будто найти удалось признаки существования какой-то новой частицы, живущей гораздо дольше B-мезона, и ей нет места в известной нам физике. Впрочем, от такого прямого утверж- дения учёные всё-таки воздерживаются: опыт целого поколения физиков, раз за разом убеждавшихся в применимости стандартной модели к, казалось бы, совсем необъяснимым явлениям, даёт о себе знать. Но просто игнорировать почти 100 тысяч событий, зарегистрированных одним из самых лучших при- боров всё ещё самого мощного ускорителя Земли, нельзя. Свойства «лишних» мюонов удивительны и сами по себе. Одно из самых поразительных состоит в том, что они очень часто рождались «пачками» – не по одной частице, а по две, по три, даже по восемь штук разом. Кроме того, как правило, из точки, в которой родились, они вылетали не во все стороны, а при- мерно в одном направлении – учёные даже употребляют термин «мюонная струя». А характерная масса новой неведомой частицы – если она действительно существует – составляет несколько ГэВ. Иначе говоря, «новая физика» – если мы действительно начинаем различать её в мюонном тумане – начина- ется на энергиях не в тысячи ГэВ, на которые устремлены монстры вроде LHC, а гораздо раньше. И вот эти свойства поразительным образом сближают результаты с земного ускорителя с опубликован- ными буквально несколькими днями ранее данными с космического детектора античастиц PAMELA.
Доля позитронов, как функция энергии // Группа PAMELA, arXiv.org Результаты эксперимента PAMELA Международный исследовательский аппарат PAMELA на борту российского искусственного спутника «Ресурс-ДК1» надёжно зафиксировал избыток позитронов высоких энергий в потоке заряженных кос- мических... По мнению многих астрофизиков, избыток высокоэнергичных позитронов ( античастиц к электронам) в составе космических лучей возникает из-за распада или аннигиляции частиц загадочной тёмной мате- рии. Это другой элемент физики за пределами Стандартной модели, о существовании которого (и даже доминировании по массе) астрономы давно знают, но ничего путного сказать не могут: на то она и тём- ная материя, что её не видно, и своё присутствие выдаёт лишь через гравитацию. Тёмная сила Как оказалось, у квартета теоретиков из Принстона, Гарварда и Нью-Йорка уже готово объяснение ре- зультатам PAMELA, которое пришлось как нельзя кстати к новым данным с «Тэватрона». По мнению Нимы Арканихамеда и его коллег, в рамках их суперсимметричной модели единое и естественное объяснение получают избыток позитронов, надёжно измеренный аппаратом PAMELA, едва различи- мый избыток гамма-лучей, приходящих, казалось бы, из ниоткуда, и туманное свечение центра галак- тики в гамма- и радиолучах, зафиксированные другими астрофизическими спутниками. В соответствии с моделью частицы тёмной материи имеют массу порядка 1000 ГэВ и не участвуют в известных нам взаимодействиях. Однако они действуют друг на друга с помощью короткодействующей «тёмной» силы, которую переносит другая тёмная частица с массой около 1 ГэВ. Иными словами, к трём обычным видам взаимодействия, действующим лишь на обычное вещество ( электромагнитному и ядерному, слабому и сильному), добавляется ещё одно, действующее лишь в мире тёмной материи. Гравитация, как водится, стоит особняком, связывая оба мира. «Тёмная» сила понадобилась теоретикам для того, чтобы связать частицы тёмной материи в своего рода «атомы», в которых одна из тёмных частиц имеет отрицательный «тёмный заряд», а другая – положительный «тёмный заряд». Только наличие подобного заряда позволяет тёмной материи анни- гилировать достаточно интенсивно, чтобы объяснить результаты астрофизических наблюдений ( это так называемый механизм Зоммерфельда). Однако частица – переносчик «тёмной» силы уже может напрямую распадаться с испусканием обыч- ных частиц, и именно она может быть ответственна за появление «лишних» мюонов. Более того, распад заряженных тёмным зарядом тёмных частиц естественным образом идёт каскадом, пока не упрётся в самую лёгкую стабильную тёмную частицу, распадаться которой уже не во что. В каждый шаг этого каскада вовлечена частица – переносчик тёмной силы, и потому на каждом шаге может появиться лишний мюон. Вот вам и мюоны «пачками». Ну а тот факт, что все они вылетают в одном направлении, связан просто с тем, что распадающаяся частица движется быстро – так заряды праздничного салюта, взрывающиеся, не долетев до высшей точки своей траектории, выбрасывают вперёд целые фонтаны ярких огней. Вот вам и «струи». Правда, как отмечает специалист по физике высоких энергий Игорь Иванов, лишних мюонных собы- тий на CDF получается слишком много – Арканихамед и его коллеги предполагали, что появление мюонных струй будет крайне редким сигналом. Но нет сомнений, что публикация данных коллабора- циями CDF и PAMELA приведёт к появлению в ближайшие месяцы десятков, а может, и сотен воз- можных объяснений. Так что зацикливаться на модели Арканихамеда, может быть, и не стоит. Пока её выделяет лишь то, что она оказалась ко двору при интерпретации и тех и других данных. Конечно, не исключено, что оба экспериментальных результата получат более тривиальные объясне- ния. «Лишние мюоны» могут оказаться не более чем неучтённым инструментальным эффектом гигант- ской установки CDF, а «лишние позитроны» – генерироваться в окрестностях нейтронных звёзд нашей Галактики. Но перспективы интригуют. В мире тёмной материи, ещё недавно казавшейся бесформенной мутью, за которой астрономы прячут своё непонимание устройства мира, начала вырисовываться структура – какие-то взаимодействия, «тёмные заряды», «тёмные атомы». Может быть, физика не кончилась, и но- вым поколениям учёных будет что изучать в «тёмном мире». gazeta.ru/science/2008/11/05_a_2874171.shtml